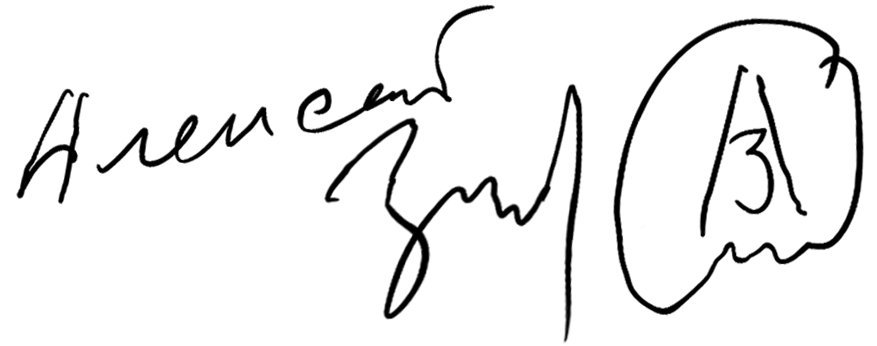О выставке художественного стекла Алексея Зеля рассказывает искусствовед курганского областного художественного музея Любовь Кочарина.
Представьте себе, что вы в Крыму и на дворе золотое южное лето. Солнце в зените, жарко, и только жажда новых впечатлений привела вас в Ливадийский дворец. И там, в прохладном сумраке старинного зала, вас настигает чудо: стрекотавший поутру кузнечик или неумолчным звоном тревожившая вас незримая цикада вдруг оказывается прямо перед вами – прозрачно-хрупкая, светящаяся, она замерла на такой же хрупкой стеклянной ветке и ждет…
Сюжет сей пригрезился мне совсем неслучайно, ибо именно в Ливадии, в сказочном сочетании роскошной южной природы и классической архитектуры, погружающей нас в атмосферу 19-го века, открылась в начале 90-х годов большая выставка из коллекции художественного стекла Алексея Зеля. (Она длилась с 1991 по 1996 г и занимала 5 залов Ливадийского дворца, – прим. Анны Зеля).

Мастер уникальных композиций из кварцевого стекла Алексей Зеля родился в Москве в 1944 г. и в юности мечтал скорее о научной деятельности, нежели о художнической славе. Он был студентом биологического факультета МГУ, когда «по семейным обстоятельствам» (дочка родилась) пришлось пойти работать на электроламповый завод.
Но, как вскоре выяснилось, судьба готовила главный поворот в жизни — важную встречу с удивительным материалом, который разбудил в биологе художника.
Первые стеклянные герои — коза, кузнечики, «Пегас», — дразнили изяществом природных форм и сложностью технических задач. Ведь стекло, с которым стал работать начинающий мастер, было совсем особое – кварцевое, хрустальное. Это самое тугоплавкое (2000-2500 градусов), особой прочности и прозрачности стекло получают, переплавляя горный хрусталь (кварц) или агат, изумруд, сердолик.
Да еще и хрусталь-то годится не всякий. В уральском, кыштымского месторождения, нередко встречаются инклюзы, вкрапления. Самое чистое стекло привозят из Японии.

Работать со стеклом очень сложно – изделие обретает художественную форму только непосредственно в пламени при постоянном вращении. Горелку – тяжелую, да еще и со специальными насадками, одуванами, мастер держит в руке, иногда устанавливает на подставке.
Впрочем, разговор о технологии рождения чудесных фантазий, который возник прежде всего потому, что каждый изумленный зритель непременно спрашивает: «да как же он это делает?», для нас все-таки слишком специальный. А нам больше всего хотелось бы обратиться к самим экспонатам волшебной по красоте выставки Алексея Зеля.
Нельзя не ощущать поэзии и аромата весны перед музыкально-хрупкой композицией «Подснежники». Стекло в ней оказывается то бархатисто-матовым на лепестках, то звеняще-прозрачным в стеблях, то напоминает фактурой плотный, тяжелый и подтаивающий сугроб. Подсмотреть у весенней природы эту дивную миниатюру и придать ее воплощению ту легкость, за которой не видно «рабочего пота», — такая задача по плечу только настоящему мастеру и поэту.
Прелестны и композиции Алексея Зеля, напоминающие классику восточного жара «го-хуа», с изгибом ветки дерева и легкими верткими птичками.

Название «Поганки» мало в ком может пробудить восторженное чувство. Но стоит вам увидеть эти изящные, светящиеся отраженным светом, как зонтичные лампочки, расцветившие старый – но тоже стеклянный – пень, и вы невольно залюбуетесь, задержитесь у витрины.
Бесспорный шедевр коллекции Алексея Зеля – знаменитая «Аллея Анны Керн». Мне кажется, даже прекрасному оператору, показавшему композицию в начале фильма «Барышня-крестьянка», не удалось вполне передать поэтическое очарование сплетающихся над аллеей гибких ветвей, сияющих золотистой листвой. Чудо музыкально-поэтического пространства, переданного в деликатном перспективном сокращении и с поразительным чувством гармонии.
Конечно, зритель может и не думать – такова его, зрительская, привилегия – о том, сколько мастерства и изобретательности, труда и бесконечных опытов, проб и ошибок, находок и бессонных ночей стоит за каждым прекрасным и неповторимым цветком и птицей, за перламутровым мерцанием орхидей и затейливыми веточками кораллов, за багряно-звенящими розами и паутинно-хрупкими усиками колосьев. Но мы не можем не сказать: это поразительно, это неподражаемо! Браво, Алексей Зеля! И спасибо Вам за Ваше творчество – мы вправе гордиться нашими, российскими, мастерами.
Любовь Кочарина. 2001 г